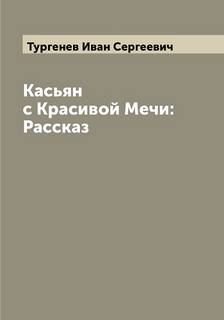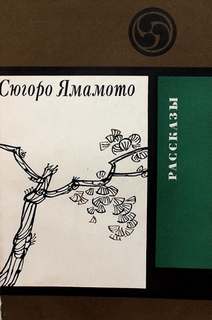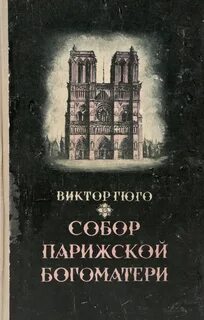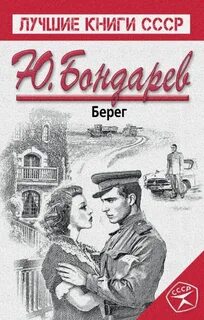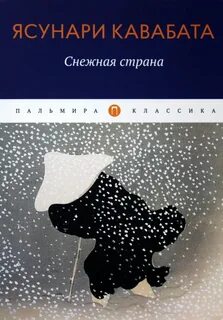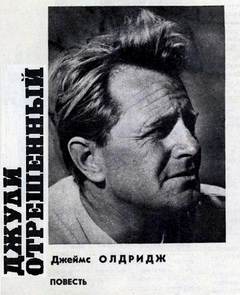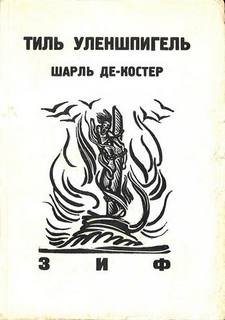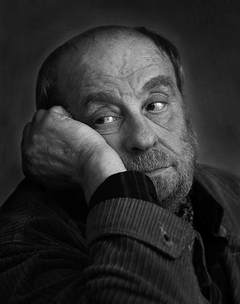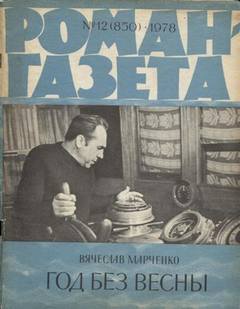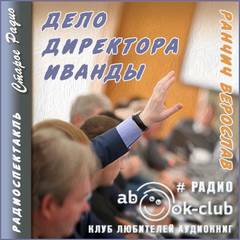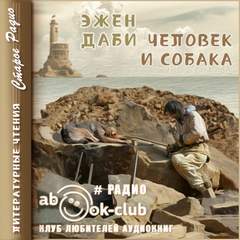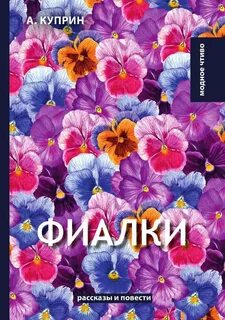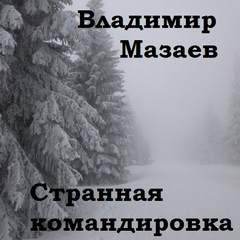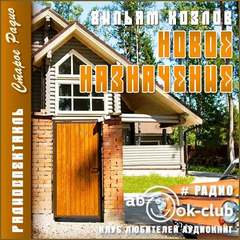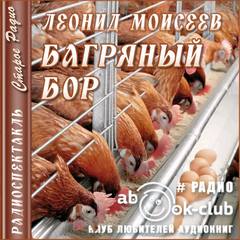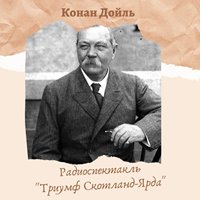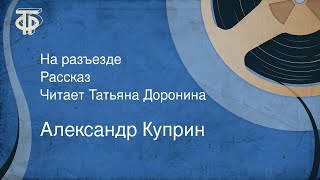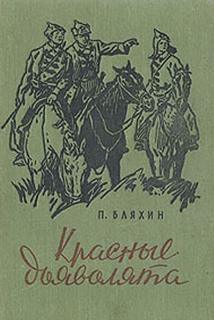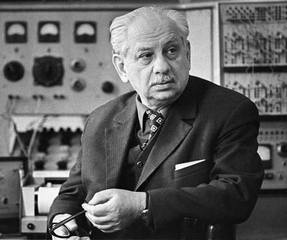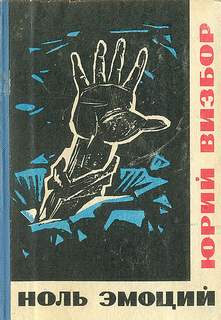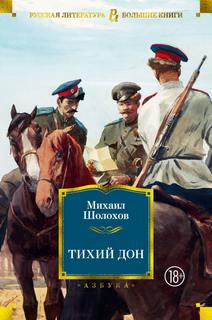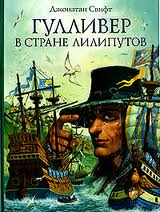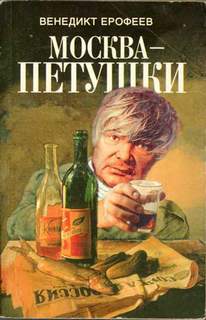Почтенного путешественника Лемюэля Гулливера, «сначала судового лекаря, а потом капитана нескольких кораблей», встречают везде как доброго знакомого, друга, как человека, который знает и видел много интересного. Обо всем, что он увидел и понял, что передумал и пережил во время своих необыкновенных «путешествий в некоторые отдаленные страны света», Гулливер вот уже два с половиной столетия рассказывает всем, кто захочет его слушать. А слушатели, как и рассказчики, бывают разные...
Одним достаточно намека — и они, многое вспомнив из того, что поняли еще раньше, улыбнутся или загрустят. Другие начнут выспрашивать, качать головами, разводить руками и, пожалуй, еще вздумают ловить рассказчика на слове. Они будут сверять маршруты гулливеровских путешествий с географическими картами, найдут множество расхождений и, того гляди, объявят уважаемого доктора и капитана выдумщиком. Да-да, и такое случалось на протяжении долгой жизни знаменитой книги XVIII века, появившейся в печати при совершенно загадочных обстоятельствах.
Вот об этих-то обстоятельствах нам, пожалуй, стоит узнать кое-что. Книга была «подброшена» на крыльцо издателя. Как оказалось, в «дело» был замешан одни на самых необыкновенных людей своего времени. Джонатана Свифта называли по-разному. Одним казалось, что это просто-напросто великий насмешник, издумавший с помощью ловкой выдумки посмеяться надо всем на свете, в том числе и над самим собой. Другие нашли в его собственной жизни подтверждение истинной правдивости всего, что произошло с придуманным им Гулливером. Третьим и сам Свифт, и его любимый герой, и все его фантастические приключения очень не понравились. И они, сколько могли, старались повредить доброму имени автора. Было много еще и других толков и толкований, мнений, пересказов...
Да, Джонатан Свифт (1667—1745) был человеком необыкновенной судьбы и характера, особого склада ума, со своим единственным «свифтовскнм» юмором. Он был по образованию богословом, занимал значительный пост декана самого крупного в тогдашней Ирландии собора святого Патрика, имел громадное влияние и авторитет, был связан со знатнейшими политическими деятелями своего времени. Одно время Свифт считался чуть ли не главой государства — настолько сильно было его влияние на внешнюю политику Англии.
И этот-то человек со времен своей бездомной юности, будучи буквально на побегушках у знатного родственника, позволил себе издеваться над церковью! В сатирическом памфлете «Сказка о бочке» Свифт дерзко, а главное — с возмутительной невозмутимостью осмеял все и вся: и саму религию, и ее служителей, и тех, кто стоял на страже «чистоты помыслов», и тех, кто шел против узаконенных форм поклонения «божественному провидению».
А уж когда, будучи сослан в почетную ссылку в страну, где гордились, что в ней родился гениальный писатель-сатирик, — в Ирландию, он, вместо того, чтобы вместе с другими грабить ирландский народ, стал его яростно и со всей доступной его великому уму логикой защищать, — декан собора св. Патрика и вовсе был ославлен сумасшедшим! Так его и называли враги — «сумасшедший декан». Так его и называли друзья — «великий декан!» В истории литературы Свифт — Декан... проницательному уму этого неистового обличителя в течение жизни открылось много такого, что и заставило его собрать свои наблюдения в одну из великих книг всех времен. «Путешествия Гулливера» были изданы без имени автора. И целые десятилетия, упиваясь дерзкой сатирой, современники продолжали думать, будто капитан Гулливер был реально существовавшим человеком. Называли место его рождения, кое-кто даже был с ним «знаком»!
Свифт вдоволь посмеялся в этой книге надо всем тем, что имело в его эпоху, да и много времени спустя, хоть какое-нибудь значение. Над аристократическими
предрассудками, когда один обыкновенный, такой же, как все, человек имел официальное право распоряжаться жизнью и даже образом мыслей всех других, то есть над королевской властью. Над глупостью тех, кто обосновывал, одобрял и возвеличивал это неправедное право. Над «божественными предначертаниями», над князьями церкви и столпами веры. Над современным ему судом, в котором основную роль играла не виновность подсудимого, а размер его кошелька. Над тупым чванством знати. Над раболепием придворных...
Он негодующе обличал, хмурился и горевал, видя, как простой народ из боязни и предрассудков, в силу привычки позволяет себя одурачивать и покорно подставляет спину под удары. Он гневно смеялся над ложной «научностью». И недаром. Ведь буквально во времена появления его книги (1726 год) какой-то «ученый» со всей серьезностью «проанализировал» древние мифы о сотворении мира и «с фактами в руках доказал», будто бы первый человек был ростом в 37 метров!..
С отвращением, гневом и горькой насмешкой Свифт наблюдал, до какой же степени морального падения могут дойти люди в погоне за деньгами, наградами, властью, какой-нибудь модной побрякушкой, какой-нибудь ничтожной, но дающей им «право» считать себя сильнее, умнее или благороднее других, привилегией... Ведь он жил среди этих людей. Он уже перестал надеяться на то, что род человеческий сможет когда-нибудь взяться за ум, отбросить ложную спесь, самомнение и вернуться к чистоте мысли и сердца, перестать обижать себе подобных.
И вот весь свой горький опыт, все свои пророческие мечты об изменении «лица человечества», все свои прозрения философа декан Джонатан Свифт вложил в свою книгу. Конечно, в ней были кое-какие намеки на современных ему политиков, на самих властителей. Читатели из «высшего света» с упоением смаковали эти намеки, хохоча над какой-нибудь уж особенно «говорящей» деталью. Но самая суть книги совсем не в этом, хотя для его современников сходство обитателей других миров с обитателями тогдашней Англии имело значение.
Если бы дело свелось только к анекдотическим совпадениям и намекам, свифтовская сатира была бы давно забыта. Но ведь живут же до нашего времени придуманные гениальным мыслителем и насмешником слова, ситуации и понятия! Когда мы хотим сказать о том, что вот этот человек во всем выше своего окружения, мы говорим: это Гулливер среди лилипутов. Когда нам хочется назвать своими именами глупцов, упрямо отстаивающих свою правоту в каком-нибудь нестоящем вопросе, мы снова вспоминаем свифтовские определения: «споры из-за выеденного яйца». Если мы видим, что люди отгородились от всего мира, презрительно отвергли всю радость жизни ради глупейших «исследований» занозы на пальце, какого-нибудь пустяка, не имеющего абсолютно никакой практической пользы и смысла, мы одним метким словом «лапутяне» развенчиваем мнимое величие таких изысканий...
Судьба гениальной книги Джонатана Свифта, которую, от мала до велика, с увлечением читают во всех концах света, очень интересна и поучительна. Как захватывающе интересна и сама эта великая из великих книга. Каждый читатель понимает ее по-своему. Людям, прожившим долгую жизнь, много размышлявшим, много пережившим и перечувствовавшим, Свифт говорит как бы с глазу на глаз о том, что действительно ценно, и о том, что ничтожно, глупо, смешно, вызывает досаду и гнев. Тем, кто находится в расцвете сил, кто проверяет самого себя на человеческую ценность и подлинность, великий философ открывает истинное предназначение человека, предупреждает об опасности самодовольства, ограниченности, лживости, хвастовства, погруженности только в себя.
А для малышей — это книга, полная озорного вымысла, это волшебная сказка, это игра. Взявшись за руку капитана Гулливера, дети вприпрыжку проходят по улицам лилипутского королевства, со смехом и веселым увлечением наблюдая за делами маленьких человечков, которые меньше нас в 12 раз. В самом деле, кому не хочется хоть раз в жизни почувствовать себя великаном! Или, напротив, совсем-совсем крошечным. Ведь после забавного путешествия к лилипутам Гулливер побывал в государстве, где все — и дома, и деревья, и облака, и домашние животные, и предметы утвари, и сами люди — больше нашего ровно в 12 раз...
Но путешествие в Бробдингнег — страну великанов, а потом, когда ты вырастешь, в Лапуту и Гуигнгнмию — страну разумных лошадей, еще впереди. Ты будешь читать эту книгу всю жизнь, постепенно постигая все величие ее замысла. Ведь недаром Свифт, остерегая читателей своего времени от одностороннего и неполного понимания «Путешествий Гулливера», как только и по преимуществу злободневного осмеяния одной Англии и пороков своей эпохи, говорил: «...автор, который имеет в виду один город, одну провинцию, одно царство или даже один век, вообще не заслуживает перевода, равно как и прочтения».
Этого, к счастью, с великим Деканом не случилось Его книга «заслужила перевода и прочтения» на все языки, выдержала и выдержит сотни переизданий. И среди них — переизданий специально для детей, в сильно сокращенном виде. В нашей стране такие переложения «Путешествий Гулливера» вышли миллионными тиражами.
И вот сейчас ты станешь впервые в жизни великаном... Не бойся лилипутов — ведь они совсем маленькие! И рядом с тобой — отважный путешественник Лемюэль Гулливер. Смелее, паруса гулливеровского корабля уже надуты свежим ветром! Мы отправляемся в первое из его необычайных странствий!...
...